Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы сделать полезнее использование сайта
размышления в сообществе (пятый диалог)
Медицинская литургия № 5 Здравоохранение в России: вызовы, управление и цифровая трансформация
Диалог Алмазова Андрея Александровича, специалиста в области общественного здравоохранения, директора по проектной деятельности Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» и основателя, директора "Петербургского медицинского форума" к.м.н. Сергея Ануфриева.
В рамках дискуссионной площадки «Петербургского медицинского форума» мы продолжаем обсуждение профессионалами отрасли путей развития российского здравоохранения, которое назвали - медицинская литургия. Присоединяйтесь на www.medforumspb.ru и ТГ канал @clubmedforum
Литургия («публичное дело»), древний греческий термин, обозначает дополнительное обязательство, которое государство накладывает на некоторых граждан по предоставлению услуг ради общего интереса. Врачи, по сути своей профессии, должны «служить» людям для их здоровья. Но современное здравоохранение все дальше уводит врачей от этой деятельности, подменяя интересы пациента и принципы врачебной специальности биополитической реальностью («ковидные ограничения»), бюрократизацией (надзор, документация, отчеты), бизнес интересами (фарма, производители оборудования, ИТ индустрия), и финансовыми посредниками (страхование), etc. Врач, все более теряет свою субъектность и профессиональную автономию, становясь политиком, чиновником, бизнесменом, фармацевтом, экономистом, надзирателем, диспетчером… Во что превращается ministerium medicinae (лат.) и как видят здравоохранение, свою специальность сами врачи и их пациенты в эпоху постмодерна, как развивать именно ту клинику, которая отвечает предназначению медицины и интересам пациентов — эти и другие вопросы мы решили начать обсуждать.
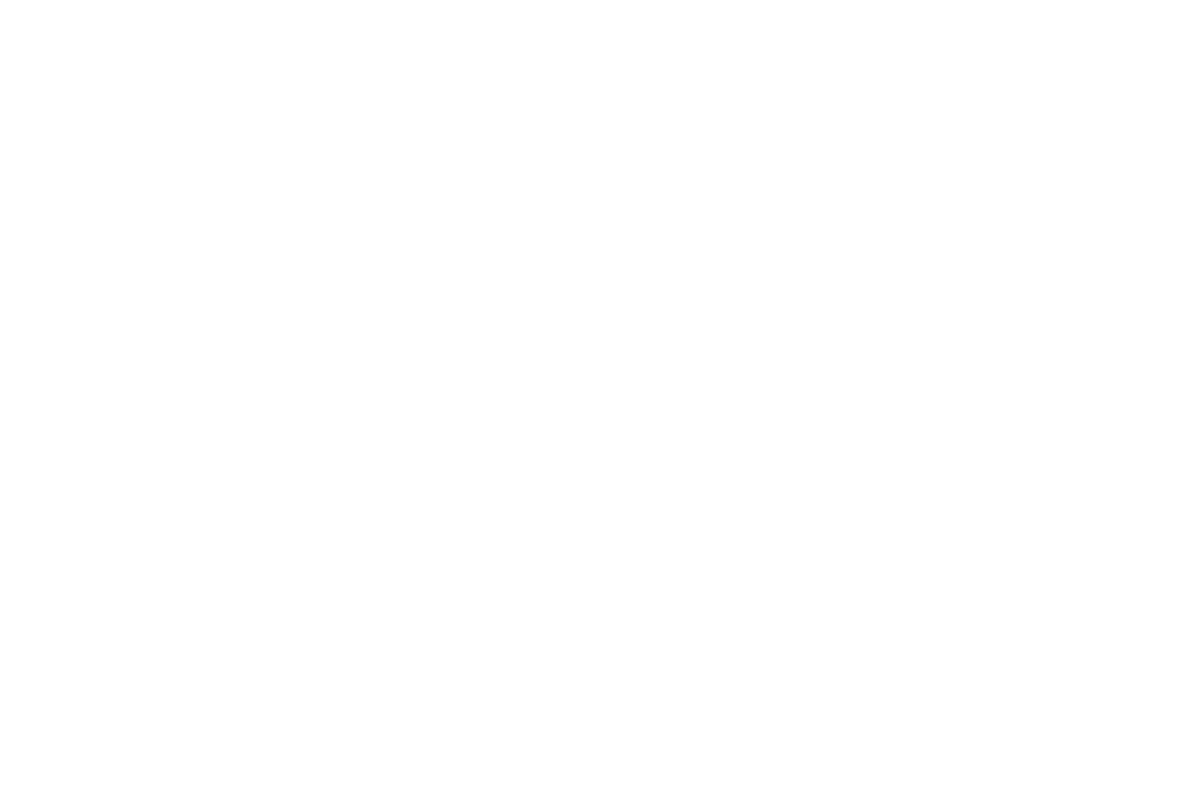
Андрей Александрович Алмазов
Сергей Ануфриев
– Среди задач здравоохранения — сохранение человеческого капитала, народосбережение, повышение качества и продолжительности жизни. Однако эта сфера, по сравнению с агропромышленным комплексом, который тоже долгое время оставался в отстающих, у нас развивается слабо. Какие причины вы видите в этой ситуации?
Андрей Алмазов
—Проблема общемировая. На мой взгляд, «рыночная» экономика, вновь ставшая доминирующей после неудачной попытки альтернативы в СССР XX века с плановой экономикой и великими целями, в принципе плохо совместима с социальными задачами такого рода. Эти задачи на деле остаются лишь красивыми лозунгами для избирателей во всех странах. Это связано с тем, что экономические механизмы требуют долгосрочного планирования на 30, 50 и более лет — значительно дольше, чем готов ожидать капитал. Либо такие механизмы могут работать только в исключительных случаях, которые противоречат природе капитала и основаны на гуманитарных ценностях и стремлениях.
Капитал и сопутствующие ему институты всегда базируются на эксплуатации и присвоении результатов труда одних людьми, владеющими средствами производства, ресурсами и рынками сбыта. Прямой экономической выгоды от заботы о здоровье людей здесь нет и быть не может. Здесь стоит вспомнить забытые и часто критикуемые теории К. Маркса и его последователей, которые во многом точно описали эту ситуацию.
Конечно, можно пытаться обосновать необходимость народосбережения с макроэкономической точки зрения, но эффект будет сильно отложенным. Он явно меньше, чем горизонт планирования или мышления современных элит из «сильных мира сего». Понятие «человеческого капитала», на мой взгляд, весьма спекулятивно и подразумевает необходимость занятости, рассматривая человека как актив и ресурс, но не отвечает на вопрос: зачем? Человечеству нужны здоровые и долгоживущие люди — для чего? Еще более сложный, но конкретный вопрос: зачем эти люди нужны стране в лице правительства и управляющих элит? Ответы здесь слишком абстрактны, чтобы деньги работали так же эффективно, как, например, в производстве продуктов питания. Зачем тратить средства на обеспечение длительности и качества жизни индивидуума с практической точки зрения? У меня нет четкого и конкретного ответа на этот вопрос, и, что еще печальнее, я не видел его у различных мыслителей, кроме абстрактных философских рассуждений о «всем хорошем» и «всем плохом».
При этом медицина одна не способна изменить ситуацию: её роль — «ремонт» и немного профилактики. На здоровье влияют в большей степени другие факторы — генетика (накопленное здоровье в поколениях — отдельная сложная тема), образ жизни, отсутствие стресса (который на 80% определяется внешней средой), здоровое питание, чистая вода и так далее. То есть для реального «сохранения здоровья» нужны колоссальные вложения, необходимо перестраивать и улучшать образ жизни человека в целом.
Пока здесь работают только гуманитарные тренды: дескать, это нужно, потому что это хорошо. Иногда удается связать это с экономикой, и тогда возникает более мощный импульс развития, но чаще это приводит к перекосам. Например, средства, которые можно было бы направить на обеспечение населения чистой водой или доступом к врачу общей практики в месте проживания, тратятся на очередные «томографы». Они сами по себе не улучшают качество жизни и сохранение здоровья населения, но эффектно демонстрируют электорату «достижения современной медицины».
Капитал и сопутствующие ему институты всегда базируются на эксплуатации и присвоении результатов труда одних людьми, владеющими средствами производства, ресурсами и рынками сбыта. Прямой экономической выгоды от заботы о здоровье людей здесь нет и быть не может. Здесь стоит вспомнить забытые и часто критикуемые теории К. Маркса и его последователей, которые во многом точно описали эту ситуацию.
Конечно, можно пытаться обосновать необходимость народосбережения с макроэкономической точки зрения, но эффект будет сильно отложенным. Он явно меньше, чем горизонт планирования или мышления современных элит из «сильных мира сего». Понятие «человеческого капитала», на мой взгляд, весьма спекулятивно и подразумевает необходимость занятости, рассматривая человека как актив и ресурс, но не отвечает на вопрос: зачем? Человечеству нужны здоровые и долгоживущие люди — для чего? Еще более сложный, но конкретный вопрос: зачем эти люди нужны стране в лице правительства и управляющих элит? Ответы здесь слишком абстрактны, чтобы деньги работали так же эффективно, как, например, в производстве продуктов питания. Зачем тратить средства на обеспечение длительности и качества жизни индивидуума с практической точки зрения? У меня нет четкого и конкретного ответа на этот вопрос, и, что еще печальнее, я не видел его у различных мыслителей, кроме абстрактных философских рассуждений о «всем хорошем» и «всем плохом».
При этом медицина одна не способна изменить ситуацию: её роль — «ремонт» и немного профилактики. На здоровье влияют в большей степени другие факторы — генетика (накопленное здоровье в поколениях — отдельная сложная тема), образ жизни, отсутствие стресса (который на 80% определяется внешней средой), здоровое питание, чистая вода и так далее. То есть для реального «сохранения здоровья» нужны колоссальные вложения, необходимо перестраивать и улучшать образ жизни человека в целом.
Пока здесь работают только гуманитарные тренды: дескать, это нужно, потому что это хорошо. Иногда удается связать это с экономикой, и тогда возникает более мощный импульс развития, но чаще это приводит к перекосам. Например, средства, которые можно было бы направить на обеспечение населения чистой водой или доступом к врачу общей практики в месте проживания, тратятся на очередные «томографы». Они сами по себе не улучшают качество жизни и сохранение здоровья населения, но эффектно демонстрируют электорату «достижения современной медицины».
Сергей Ануфриев.
– Частные клиники в России так и не стали значимой частью системы здравоохранения. Более того, качество управления в большинстве частных клиник, даже в крупных сетях, оставляет желать лучшего. Погоня за прибылью и полное незнание основных принципов менеджмента приводят к тому, что главные врачи меняются как перчатки, персонал ротируется чаще, чем идут дожди в Петербурге, а качество медицинской помощи находится на очень низком уровне. Как вы объясняете такую ситуацию?
Не хочу называть менеджмент наукой, но это, безусловно, набор серьезных профессиональных знаний в организации производства, коллективной работы, психологии сотрудников и клиентов (в случае медицины — пациентов, часто находящихся в сложном психологическом состоянии из-за необходимости обращения за помощью), а также инструментов управления и, самое главное, опыта.
А.А.Алмазов
А.А.Алмазов
— Вряд ли я могу авторитетно судить о качестве управления в частных клиниках, особенно в сетевых. Принимаю ваш тезис как есть, так как мои впечатления схожи, и отвечу, в чем, по моему мнению, заключается проблема медицинского менеджмента. Из моего опыта общения с руководством частных и государственных клиник следует простой вывод: врачи до сих пор сопротивляются базовому положению, что современный менеджмент — это отдельная, сложная профессия. Возможно, даже не менее сложная, чем врачебная практика. Особенно если речь идет о медицинском менеджменте, где необходимо хорошо разбираться в тонкостях лечебного процесса, экономике организации работы клиники и сложных вопросах психологии в, скажем так, необычных и экстремальных условиях для человека. Это накладывает отпечаток на отношения в коллективе и с пациентами.
Аналогию можно провести с производством, где всегда были главный инженер (в нашем случае — главный врач) и директор. Такая модель успешно применяется, например, в клинике Майо, в том числе на уровне клинических отделений. А что имеем у нас? Руководят либо менеджеры, которые не вникают глубоко в медицинскую специфику и не понимают сложной психологии коллектива, либо врачи, получившие ограниченное и формальное образование в области менеджмента, считающие себя экспертами в управлении, но при этом продолжающие вести врачебную практику и руководить лечебным процессом. Можно ли совмещать эти роли? Споры на эту тему продолжаются много лет, но однозначно хорошо это удается лишь единицам, обладающим особым талантом.
Вторая причина — чрезмерное регулирование отрасли, которое, на мой взгляд, превышает все разумные пределы и настолько глубоко вмешивается в вопросы управления, что оставляет мало пространства для маневра.
Часто руководитель клиники занят не стратегическим менеджментом медицинской организации (кстати, вы часто видели клиники, где существует адекватный стратегический план с измеримыми показателями, а не просто набор лозунгов или задачи микроменеджмента?), а выполнением регуляторных требований, контролем денежных потоков и устранением ситуативных проблем в процессах, чтобы клиника могла продолжать работу. Таким образом, мы имеем печальное сочетание внутренних и внешних факторов, которые в совокупности с относительно небольшой емкостью рынка коммерческой медицины и высокой себестоимостью медицинских услуг создают такой эффект.
Аналогию можно провести с производством, где всегда были главный инженер (в нашем случае — главный врач) и директор. Такая модель успешно применяется, например, в клинике Майо, в том числе на уровне клинических отделений. А что имеем у нас? Руководят либо менеджеры, которые не вникают глубоко в медицинскую специфику и не понимают сложной психологии коллектива, либо врачи, получившие ограниченное и формальное образование в области менеджмента, считающие себя экспертами в управлении, но при этом продолжающие вести врачебную практику и руководить лечебным процессом. Можно ли совмещать эти роли? Споры на эту тему продолжаются много лет, но однозначно хорошо это удается лишь единицам, обладающим особым талантом.
Вторая причина — чрезмерное регулирование отрасли, которое, на мой взгляд, превышает все разумные пределы и настолько глубоко вмешивается в вопросы управления, что оставляет мало пространства для маневра.
Часто руководитель клиники занят не стратегическим менеджментом медицинской организации (кстати, вы часто видели клиники, где существует адекватный стратегический план с измеримыми показателями, а не просто набор лозунгов или задачи микроменеджмента?), а выполнением регуляторных требований, контролем денежных потоков и устранением ситуативных проблем в процессах, чтобы клиника могла продолжать работу. Таким образом, мы имеем печальное сочетание внутренних и внешних факторов, которые в совокупности с относительно небольшой емкостью рынка коммерческой медицины и высокой себестоимостью медицинских услуг создают такой эффект.
Сергей Ануфриев.
– На прошедшем в июне 2025 года XVIII Петербургском медицинском форуме состоялась важная сессия, посвящённая тому, как клиникам избежать зависимости и контроля со стороны агрегаторов. За последние годы агрегаторы медицинских услуг, такие как ПроДокторов, НаПоправку, Сберздоровье и другие, превратились в сложные экосистемы, объединяющие цифровые сервисы клиник, прогнозную аналитику, рейтинги врачей и рекламные инструменты. Клиники становятся зависимыми от них не только в части привлечения пациентов и продвижения услуг, но и в вопросах медицинских информационных систем, телемедицины и обмена данными в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).
Среди руководителей клиник растёт озабоченность: диктат агрегаторов, нерыночное управление потоками пациентов, субъективное рейтингование врачей, акцент на бренде врача вместо клиники и сбор больших массивов данных вызывают вопросы и опасения. Как вы считаете, является ли развитие экономики совместного пользования и зависимость от агрегаторов в здравоохранении неизбежной реальностью или это маловероятный сценарий?
Среди руководителей клиник растёт озабоченность: диктат агрегаторов, нерыночное управление потоками пациентов, субъективное рейтингование врачей, акцент на бренде врача вместо клиники и сбор больших массивов данных вызывают вопросы и опасения. Как вы считаете, является ли развитие экономики совместного пользования и зависимость от агрегаторов в здравоохранении неизбежной реальностью или это маловероятный сценарий?
Андрей Алмазов
— Ваши вопросы заслуживают отдельной кандидатской диссертации, если отвечать на них серьёзно и глубоко. Давайте разделим понятие «зависимости» на технологическую и маркетинговую.
В части маркетинга существует несколько каналов коммуникации и привлечения клиентов. Исторически самым эффективным в медицине является «сарафанное радио», подкреплённое созданием сильного бренда — то есть узнаваемой торговой марки. Если у вас слабый бренд, скорее всего, вы окажетесь в полной зависимости от агрегаторов. Если же бренд сильный и у вас большая лояльная клиентская база, которая рекомендует вас друзьям и знакомым, пациенты найдут вас напрямую в Интернете, и ни один агрегатор не сможет вас игнорировать, разве что устроит против вас специальную антикампанию. Но это незаконно, да и вряд ли вы настолько заметны и опасны, чтобы такое организовывать.
Здесь мы наблюдаем трансформацию рынка в его сложном движении к Web 3.0, который я понимаю как Интернет субъектов, а не посредников. Кто является субъектом на рынке медицины? Как бы клиникам это ни было неприятно, фактически — врач. В подавляющем большинстве случаев пациенты ищут не клинику, а конкретного врача. В клинику же обращаются, когда не знают, как найти врача, или не доверяют найденному специалисту. Снова возникает вопрос: чей бренд сильнее — клиники или конкретного врача?
Тренд будет таким, что организации постепенно превращаются в коллективные практики и коворкинги, в том числе медицинские. Поэтому я бы посоветовал руководителям клиник одно: соберите «звёздный» коллектив врачей, помогите им работать вместе, усиливая друг друга, и станьте для них полезными. Не рассматривайте врачей как безликий ресурс, как таксистов, где неважно, кто тебя везёт, главное — довезти безопасно. Медицина — это не конвейер, это своего рода ритуал. Нужно быть «духовным лидером» для своих врачей, тогда не возникнет дилеммы с акцентом на бренде врача вместо клиники.
Следует продвигать клинику как объединение команды хороших специалистов, дополняя это обещаниями качественного управления медицинским процессом. Врачам нужно давать возможность сосредоточиться на работе, а не на оформлении документации. (Подсказка: чтобы стать привлекательным для врача, разгрузите его от бумажной работы, обеспечьте нормальными информационными технологиями, обучите, помогите, предоставьте медицинских консультантов, менеджеров, средний медицинский персонал и так далее.) Тогда врачи будут сами стремиться работать у вас, а за ними придут пациенты.
Никакие агрегаторы в такой ситуации не будут страшны, а субъективные оценки пациентов на них можно эффективно контролировать через открытую коммуникацию. На каждый отзыв или группу отзывов должна быть доброжелательная реакция клиники. Стоит проводить открытые аудиты качества медицинской помощи, честно публиковать их результаты и разъяснять их.
Всё это описано в основах маркетинга ещё с 1970–1980-х годов, достаточно внимательно изучить соответствующую литературу.
Однако главный вопрос — строит ли клиника бизнес на долгосрочную перспективу или просто пытается заработать здесь и сейчас? На мой взгляд, краткосрочные стратегии в медицине не работают, или это уже не медицина, а оказание медицинских услуг, зачастую среднего качества и часто бессмысленных с точки зрения лечения. В таком случае чем быстрее агрегаторы «унизят» и уничтожат таких игроков, тем лучше для пациентов и чище будет воздух на рынке.
В части маркетинга существует несколько каналов коммуникации и привлечения клиентов. Исторически самым эффективным в медицине является «сарафанное радио», подкреплённое созданием сильного бренда — то есть узнаваемой торговой марки. Если у вас слабый бренд, скорее всего, вы окажетесь в полной зависимости от агрегаторов. Если же бренд сильный и у вас большая лояльная клиентская база, которая рекомендует вас друзьям и знакомым, пациенты найдут вас напрямую в Интернете, и ни один агрегатор не сможет вас игнорировать, разве что устроит против вас специальную антикампанию. Но это незаконно, да и вряд ли вы настолько заметны и опасны, чтобы такое организовывать.
Здесь мы наблюдаем трансформацию рынка в его сложном движении к Web 3.0, который я понимаю как Интернет субъектов, а не посредников. Кто является субъектом на рынке медицины? Как бы клиникам это ни было неприятно, фактически — врач. В подавляющем большинстве случаев пациенты ищут не клинику, а конкретного врача. В клинику же обращаются, когда не знают, как найти врача, или не доверяют найденному специалисту. Снова возникает вопрос: чей бренд сильнее — клиники или конкретного врача?
Тренд будет таким, что организации постепенно превращаются в коллективные практики и коворкинги, в том числе медицинские. Поэтому я бы посоветовал руководителям клиник одно: соберите «звёздный» коллектив врачей, помогите им работать вместе, усиливая друг друга, и станьте для них полезными. Не рассматривайте врачей как безликий ресурс, как таксистов, где неважно, кто тебя везёт, главное — довезти безопасно. Медицина — это не конвейер, это своего рода ритуал. Нужно быть «духовным лидером» для своих врачей, тогда не возникнет дилеммы с акцентом на бренде врача вместо клиники.
Следует продвигать клинику как объединение команды хороших специалистов, дополняя это обещаниями качественного управления медицинским процессом. Врачам нужно давать возможность сосредоточиться на работе, а не на оформлении документации. (Подсказка: чтобы стать привлекательным для врача, разгрузите его от бумажной работы, обеспечьте нормальными информационными технологиями, обучите, помогите, предоставьте медицинских консультантов, менеджеров, средний медицинский персонал и так далее.) Тогда врачи будут сами стремиться работать у вас, а за ними придут пациенты.
Никакие агрегаторы в такой ситуации не будут страшны, а субъективные оценки пациентов на них можно эффективно контролировать через открытую коммуникацию. На каждый отзыв или группу отзывов должна быть доброжелательная реакция клиники. Стоит проводить открытые аудиты качества медицинской помощи, честно публиковать их результаты и разъяснять их.
Всё это описано в основах маркетинга ещё с 1970–1980-х годов, достаточно внимательно изучить соответствующую литературу.
Однако главный вопрос — строит ли клиника бизнес на долгосрочную перспективу или просто пытается заработать здесь и сейчас? На мой взгляд, краткосрочные стратегии в медицине не работают, или это уже не медицина, а оказание медицинских услуг, зачастую среднего качества и часто бессмысленных с точки зрения лечения. В таком случае чем быстрее агрегаторы «унизят» и уничтожат таких игроков, тем лучше для пациентов и чище будет воздух на рынке.
Сергей Ануфриев.
– Сейчас много говорят о том, что искусственный интеллект (ИИ) в медицине приведёт к прорыву, но на прошедшем в июне XVIII Петербургском медицинском форуме мы с трудом нашли пару-тройку докладов о реальном применении ИИ в клинике. С чем, на ваш взгляд, это связано?
Андрей Алмазов
— Проблема с ИИ носит системный характер, главным образом из-за незрелости процессов и неготовности к их трансформации. Метафорически можно сказать: новое вино не наливают в старые меха. Чтобы получить эффект от ИИ-разработок, нужно понимать, куда именно их внедрять в существующие или создаваемые новые бизнес-процессы и с какой целью. Пока мы только в начале пути, однако маркетинговые обещания создают чрезмерные ожидания и пытаются раскачать рынок, а затем наступает разочарование — всё по известной «кривой Гарднера». Вопрос в том, достигли ли мы пика завышенных ожиданий и теперь начинаем спад, или ещё движемся к нему.
Спад неизбежен, а затем постепенно начнётся реальное применение технологий ИИ. Процесс неоднороден, поэтому уже есть примеры именно такого развития событий.
Сергей Ануфриев.
– Всё чаще звучат предложения собирать большие массивы данных о здоровье — записи историй болезни, цифровые снимки — чтобы искусственный интеллект анализировал их и предоставлял широкий спектр информации: от аналитики до прогнозов. Насколько, на ваш взгляд, это реальные планы?
Андрей Алмазов
— Позвольте мне привести мысль из врачебного чата, где обсуждали новость о том, что GPT уже сейчас может ставить диагнозы лучше врача — эта идея мне очень понравилась. Представьте, что все врачи мира собрались в консилиум, получили полную информацию о вас и совместно ставят диагноз, после чего вместе назначают лечение. В медицине существует понимание конкуренции научных школ: то, что вчера считалось правильным, сегодня может быть признано ошибочным, и наоборот. Часто у врача нет возможности принимать однозначные решения, более того, окончательное решение всегда остаётся за пациентом. Индивидуальное добровольное согласие подразумевает, что пациенту необходимо объяснить всё, касающееся его лечения, причём «простым языком». Далее часто приходится делать сложный клинический и этический выбор, поскольку приходится выбирать из вариантов вроде: «плохо, но точно сработает», «может быть не так плохо, но…», «давайте попробуем, вдруг поможет…» и так далее.
Проблема в том, что если автомеханик знает, как устроена машина и почему она работает или не работает, то у человека нет таких чертежей и схем. Все эти массивы данных и цифровые снимки — это лишь приблизительные описания структуры и функций вашего организма, но не вашей психики, и уж точно не полные. Не существует и не может существовать идеального эталона, под который нужно подгонять ваш организм «лечением». Попытки такого подхода часто приводят к развитию ипохондрического невроза и усилению психосоматических проблем.
Человек — не машина, каждый организм уникален, а болезни у всех протекают по-разному. Уверены ли мы, что большой объём так называемой «объективной» информации действительно поможет в сохранении здоровья или лечении?
Резюмируя: собирать огромные массивы данных реально, но их интерпретация — задача далеко не простая. Важно учитывать, что часть этих данных будет изначально зашумлена, а часть — бессмысленна для диагностики. Кроме того, эти данные необходимо рассматривать в комплексе с другими, ещё не собранными данными, о которых никто даже не догадывается, что они нужны. Вот это и станет главным препятствием для светлой идеалистической идеи вроде: «Мы сделаем вам МРТ всего тела, возьмём анализы, назначим персональные препараты, и вы проживёте здоровым ещё 200 лет». Медицина не всегда знает, как собираемые данные взаимосвязаны и что из них следует.
Повторюсь, врачу не нужен анализ всего подряд. При диагностике врач ориентируется на определённые «знаки» и сопутствующие симптомы, сопоставляя их с медицинскими знаниями и собственным опытом. Это совсем другой алгоритм, нежели многофакторный анализ огромного массива данных, часто нечётких и без понимания их точных взаимосвязей. Garbage in — garbage out.
Проблема в том, что если автомеханик знает, как устроена машина и почему она работает или не работает, то у человека нет таких чертежей и схем. Все эти массивы данных и цифровые снимки — это лишь приблизительные описания структуры и функций вашего организма, но не вашей психики, и уж точно не полные. Не существует и не может существовать идеального эталона, под который нужно подгонять ваш организм «лечением». Попытки такого подхода часто приводят к развитию ипохондрического невроза и усилению психосоматических проблем.
Человек — не машина, каждый организм уникален, а болезни у всех протекают по-разному. Уверены ли мы, что большой объём так называемой «объективной» информации действительно поможет в сохранении здоровья или лечении?
Резюмируя: собирать огромные массивы данных реально, но их интерпретация — задача далеко не простая. Важно учитывать, что часть этих данных будет изначально зашумлена, а часть — бессмысленна для диагностики. Кроме того, эти данные необходимо рассматривать в комплексе с другими, ещё не собранными данными, о которых никто даже не догадывается, что они нужны. Вот это и станет главным препятствием для светлой идеалистической идеи вроде: «Мы сделаем вам МРТ всего тела, возьмём анализы, назначим персональные препараты, и вы проживёте здоровым ещё 200 лет». Медицина не всегда знает, как собираемые данные взаимосвязаны и что из них следует.
Повторюсь, врачу не нужен анализ всего подряд. При диагностике врач ориентируется на определённые «знаки» и сопутствующие симптомы, сопоставляя их с медицинскими знаниями и собственным опытом. Это совсем другой алгоритм, нежели многофакторный анализ огромного массива данных, часто нечётких и без понимания их точных взаимосвязей. Garbage in — garbage out.
Сергей Ануфриев
— Различные аналитические исследования и опыт многих врачей показывают, что большинство россиян не готовы лечиться онлайн. Хотя агрегаторы записи на приём демонстрируют из года в год впечатляющую статистику роста консультаций врачей по цене около 500 рублей на своих сервисах. Что же мешает развитию телемедицины?
Андрей Алмазов
— Два главных фактора. Первый — врачи морально не готовы, да и им зачастую это запрещают. Когда обсуждался закон о телемедицине, а затем вводились экспериментальные правовые режимы, звучали предложения предоставить врачу право самостоятельно решать, достаточно ли ему удалённой информации для принятия решений по диагностике и лечению или необходим очный приём. К сожалению, это предложение до сих пор не прошло, хотя лично я не вижу разумных аргументов против, кроме, пожалуй, того, что не всех врачей можно допускать к такому формату оказания медицинской помощи. Сейчас же происходит ровно наоборот: удалённые консультации чаще всего оказывают врачи с низкой квалификацией и по более низкой цене, чем очный приём, хотя по времени и усилиям со стороны врача всё должно быть наоборот.
Действительно, многое нельзя сделать дистанционно, но чтобы это понять, врач должен тщательно проанализировать конкретную ситуацию с пациентом, запросить у него медицинские документы, назначить анализы и диагностические исследования и так далее. Вот скажите, почему по закону врач не может дистанционно назначить анализы без очного осмотра пациента или, например, при подозрении на разрыв мениска сразу порекомендовать сделать МРТ и прийти на приём уже с ним? Ведь в 95% случаев именно это и происходит при очном осмотре, и при этом назначается повторный приём. Почему не сделать всё сразу? Сейчас я могу привести множество примеров, почему это невозможно, но все они будут исключениями из общего правила.
Далее, вторая причина — часто пациент не готов морально. Приходя в медицинскую организацию, он выполняет определённый ритуал, который в телемедицине выражен гораздо менее явно. Это отдельный и очень интересный психологический аспект, который описывали ещё древние, и который мы сейчас изучаем. Поход к врачу в некоторой степени является ритуальным действием (примерно на 30–50%, точно не менее), а уже затем — рациональным.
А стационар для многих пациентов — это не только вынужденное место, из которого хочется как можно скорее уйти (а лучше вообще туда не попадать), а иногда своего рода мастерская для решения всех медицинских проблем. Понятно, что мало кому нравится лежать в больнице, но это «лежание» окружено определённым ореолом: «завтра врач меня выпишет», за которым ощущается, что всё — я свободен, меня вылечили, я справился… (до следующего раза). Телемедицина же явно и без иллюзий, которые часто возникают и при амбулаторных посещениях врача, предполагает, что ответственность лежит на самом пациенте: врач даёт рекомендации, а дальше решать, что и как делать, отвечать за выполнение этих рекомендаций и при необходимости обращаться повторно (а лучше поддерживать связь с врачом, как это принято в наиболее продвинутых сервисах) в течение периода активного лечения. То есть пациент сам становится управляющим своего «амбулаторного законченного случая» (как минимум).
Большинство к этому не готовы, поэтому очный поход к врачу часто воспринимается как перекладывание на врача ответственности за контроль заболевания и лечения. Причём, если посмотреть реально, де-факто после выхода из кабинета врач о пациенте тут же забывает — что вполне логично: лечение — дело пациента, врач может только помочь, но не может и не должен делать всё за него.
Вот здесь и кроется главный барьер телемедицины: она столкнулась с фундаментальной проблемой здравоохранения, которая обсуждается много лет — вы лечитесь сами или вас лечат? Отсюда, кстати, возник отличный термин «ответственное самолечение», предложенный профессором П. А. Воробьёвым. Считаю, что чем больше пациенты будут понимать, что их собственное здоровье находится только в их руках, а врач — консультант и помощник, а не «волшебник», тем больше будет места для телемедицинских технологий. Они действительно всё больше смогут обеспечить многие услуги, ранее доступные только при очном посещении врача, а в будущем — возможно почти все, хотя вряд ли «всё» будет целесообразным.
Действительно, многое нельзя сделать дистанционно, но чтобы это понять, врач должен тщательно проанализировать конкретную ситуацию с пациентом, запросить у него медицинские документы, назначить анализы и диагностические исследования и так далее. Вот скажите, почему по закону врач не может дистанционно назначить анализы без очного осмотра пациента или, например, при подозрении на разрыв мениска сразу порекомендовать сделать МРТ и прийти на приём уже с ним? Ведь в 95% случаев именно это и происходит при очном осмотре, и при этом назначается повторный приём. Почему не сделать всё сразу? Сейчас я могу привести множество примеров, почему это невозможно, но все они будут исключениями из общего правила.
Далее, вторая причина — часто пациент не готов морально. Приходя в медицинскую организацию, он выполняет определённый ритуал, который в телемедицине выражен гораздо менее явно. Это отдельный и очень интересный психологический аспект, который описывали ещё древние, и который мы сейчас изучаем. Поход к врачу в некоторой степени является ритуальным действием (примерно на 30–50%, точно не менее), а уже затем — рациональным.
А стационар для многих пациентов — это не только вынужденное место, из которого хочется как можно скорее уйти (а лучше вообще туда не попадать), а иногда своего рода мастерская для решения всех медицинских проблем. Понятно, что мало кому нравится лежать в больнице, но это «лежание» окружено определённым ореолом: «завтра врач меня выпишет», за которым ощущается, что всё — я свободен, меня вылечили, я справился… (до следующего раза). Телемедицина же явно и без иллюзий, которые часто возникают и при амбулаторных посещениях врача, предполагает, что ответственность лежит на самом пациенте: врач даёт рекомендации, а дальше решать, что и как делать, отвечать за выполнение этих рекомендаций и при необходимости обращаться повторно (а лучше поддерживать связь с врачом, как это принято в наиболее продвинутых сервисах) в течение периода активного лечения. То есть пациент сам становится управляющим своего «амбулаторного законченного случая» (как минимум).
Большинство к этому не готовы, поэтому очный поход к врачу часто воспринимается как перекладывание на врача ответственности за контроль заболевания и лечения. Причём, если посмотреть реально, де-факто после выхода из кабинета врач о пациенте тут же забывает — что вполне логично: лечение — дело пациента, врач может только помочь, но не может и не должен делать всё за него.
Вот здесь и кроется главный барьер телемедицины: она столкнулась с фундаментальной проблемой здравоохранения, которая обсуждается много лет — вы лечитесь сами или вас лечат? Отсюда, кстати, возник отличный термин «ответственное самолечение», предложенный профессором П. А. Воробьёвым. Считаю, что чем больше пациенты будут понимать, что их собственное здоровье находится только в их руках, а врач — консультант и помощник, а не «волшебник», тем больше будет места для телемедицинских технологий. Они действительно всё больше смогут обеспечить многие услуги, ранее доступные только при очном посещении врача, а в будущем — возможно почти все, хотя вряд ли «всё» будет целесообразным.
Сергей Ануфриев
— Многие сферы, например банковская, стали цифровыми и отказались от такого количества офисов, как было ещё 10 лет назад. В медицине мы тоже наблюдаем, как цифровые технологии и информатизация меняют формат клиник и медицинского обслуживания. Какие, по вашему мнению, самые значимые изменения произошли благодаря цифровизации в медицинском обслуживании пациентов за последние годы?
Андрей Алмазов
— У меня нет статистики по поводу «сокращения количества офисов», но рядом с домом у меня пять банков, и они лишь местами меняются. Я специально заходил посмотреть, что там делают люди и кто они — оказалось, что там много молодёжи, и все они зачем-то ходят в банк лично. Понятно, что мои наблюдения субъективны, но я лично не вижу сокращения числа офисов для физических лиц — кажется, их даже стало больше. Не могу объяснить этот феномен, сам в банке бываю раз в год, когда не удаётся решить вопрос удалённо. Кстати, мы тут рассуждаем о замене врача, но нет ни одного банковского чат-бота с искусственным интеллектом, способного решить хотя бы немного нестандартный вопрос, не заложенный заранее в алгоритм. Почему? Не знаю… Видимо, «в действительности всё не так, как на самом деле» (с).
Я считаю, что медицина в плане освоения технологий не является отстающей отраслью, скорее наоборот. Просто это не всегда заметно невооружённым глазом. Не хочу ссылаться на многочисленные публичные интервью, цель которых — нагнать хайп и привлечь просмотры, но в них часто встречаются очень интересные факты и мнения действительно выдающихся учёных. Также не могу просто посоветовать читать научные статьи — для этого нужен навык отделять зерна от плевел. Но давайте рассмотрим основные моменты:
o В области поиска новых лекарств произошёл реальный прорыв: сократилось время на начальных этапах, когда учёные экспериментируют с различными комбинациями и белками. Появилась возможность математического моделирования, ранее недоступная из-за ограничений вычислительных мощностей и сложности взаимодействия с ними.
o Распознавание медицинских изображений действительно применяется на практике, как и роботизированная хирургия.
o Есть отдельные достижения в диагностике — подсказки врачам, помощь в сопоставлении различных данных и фактов, что раньше было гораздо сложнее — можно провести аналогию с использованием калькулятора вместо счётов.
Не стоит судить о технологиях по доступности электронной записи к врачу и наличию в виде неструктурированного текста медицинских записей, условно называемых электронной медицинской картой, о достижениях современных технологий в медицине, в том числе с использованием ИИ.
А теперь вернёмся к вопросу «обслуживания». В этой сфере достижениями можно считать упомянутую электронную запись, слабо доступную в большинстве регионов страны, но существующую в отдельных местах, электронные рецепты и хотя бы какую-то возможность поговорить с врачом удалённо. И «вишенка на торте» — удалённый мониторинг хронических заболеваний. Вот здесь действительно произошёл реальный прорыв, но его эффект снова упирается в организацию процессов по старым схемам.
Честно говоря, пока что это немного. Ах да, забыл упомянуть ещё один «важный» момент — доступ к своей медицинской информации. Из личного опыта: около 50% пациентов даже не забирают DVD с результатами своих исследований из клиники, а наличие или прочтение PDF-файла выписки из стационара вряд ли поможет, например, при подаче заявления в страховую компанию (хотя, возможно, где-то это уже работает).
Я считаю, что для пациентов все достижения ещё впереди, но для этого придётся изменить процессы «обслуживания», а лучше — пересмотреть организацию лечения и обеспечение пресловутых «качества и доступности медицинской помощи». Необходимо переключить вектор электорального популизма в освещении современных достижений здравоохранения на реальную помощь как врачу, так и пациенту в их зачастую непростой совместной борьбе с болезнью, а ещё лучше — на реализацию стратегии сохранения здоровья. Здесь цифровые технологии уже могут многое, но для их эффективного применения нужна трансформация, а не надежды на то, что искусственный интеллект закроет все пробелы в текущих процессах и поможет нерадивым организаторам здравоохранения «навести порядок, ничего не меняя» (М. Е. Салтыков-Щедрин).
Я считаю, что медицина в плане освоения технологий не является отстающей отраслью, скорее наоборот. Просто это не всегда заметно невооружённым глазом. Не хочу ссылаться на многочисленные публичные интервью, цель которых — нагнать хайп и привлечь просмотры, но в них часто встречаются очень интересные факты и мнения действительно выдающихся учёных. Также не могу просто посоветовать читать научные статьи — для этого нужен навык отделять зерна от плевел. Но давайте рассмотрим основные моменты:
o В области поиска новых лекарств произошёл реальный прорыв: сократилось время на начальных этапах, когда учёные экспериментируют с различными комбинациями и белками. Появилась возможность математического моделирования, ранее недоступная из-за ограничений вычислительных мощностей и сложности взаимодействия с ними.
o Распознавание медицинских изображений действительно применяется на практике, как и роботизированная хирургия.
o Есть отдельные достижения в диагностике — подсказки врачам, помощь в сопоставлении различных данных и фактов, что раньше было гораздо сложнее — можно провести аналогию с использованием калькулятора вместо счётов.
Не стоит судить о технологиях по доступности электронной записи к врачу и наличию в виде неструктурированного текста медицинских записей, условно называемых электронной медицинской картой, о достижениях современных технологий в медицине, в том числе с использованием ИИ.
А теперь вернёмся к вопросу «обслуживания». В этой сфере достижениями можно считать упомянутую электронную запись, слабо доступную в большинстве регионов страны, но существующую в отдельных местах, электронные рецепты и хотя бы какую-то возможность поговорить с врачом удалённо. И «вишенка на торте» — удалённый мониторинг хронических заболеваний. Вот здесь действительно произошёл реальный прорыв, но его эффект снова упирается в организацию процессов по старым схемам.
Честно говоря, пока что это немного. Ах да, забыл упомянуть ещё один «важный» момент — доступ к своей медицинской информации. Из личного опыта: около 50% пациентов даже не забирают DVD с результатами своих исследований из клиники, а наличие или прочтение PDF-файла выписки из стационара вряд ли поможет, например, при подаче заявления в страховую компанию (хотя, возможно, где-то это уже работает).
Я считаю, что для пациентов все достижения ещё впереди, но для этого придётся изменить процессы «обслуживания», а лучше — пересмотреть организацию лечения и обеспечение пресловутых «качества и доступности медицинской помощи». Необходимо переключить вектор электорального популизма в освещении современных достижений здравоохранения на реальную помощь как врачу, так и пациенту в их зачастую непростой совместной борьбе с болезнью, а ещё лучше — на реализацию стратегии сохранения здоровья. Здесь цифровые технологии уже могут многое, но для их эффективного применения нужна трансформация, а не надежды на то, что искусственный интеллект закроет все пробелы в текущих процессах и поможет нерадивым организаторам здравоохранения «навести порядок, ничего не меняя» (М. Е. Салтыков-Щедрин).
«Здоровье — как вчерашний снег: его нельзя сохранить, его можно лишь укреплять и не давать ему таять так быстро с годами» (П. П. Кузнецов).
Возможно, самым прорывным изменением станет реальная возможность продлевать активное долголетие, помогая медицине поддерживать человека бодрым духом, крепким телом и смелыми стремлениями вплоть до глубокой старости, особенно если этот человек осознаёт, зачем ему это нужно!
Возможно, самым прорывным изменением станет реальная возможность продлевать активное долголетие, помогая медицине поддерживать человека бодрым духом, крепким телом и смелыми стремлениями вплоть до глубокой старости, особенно если этот человек осознаёт, зачем ему это нужно!
Валентин Лебедев, графика, 50*45, 1977 год Рабочие Саяно-Шушенской ГЭС. Работа продается. Запрос на an812@mail.ru

