Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы сделать полезнее использование сайта
размышления в сообществе (четвертый диалог)
Медицинская литургия № 4 Здравоохранение надо содержать, а не пытаться сделать из него источник дохода
Диалог д.м.н., профессора Павла Андреевича Воробьева, руководителя медицинского бюро (https://medicase.pro) и основателя, директора Петербургского медицинского форума к.м.н. Сергея Ануфриева.
На предстоящем 16-18 июня XVIII Петербургском медицинском форуме мы продолжим дискуссии профессионалов отрасли, направленные на создание клиник и медицины нового поколения, который назвали - медицинская литургия. Присоединяйтесь на www.medforumspb.ru
Литургия («публичное дело»), древний греческий термин, обозначает дополнительное обязательство, которое государство накладывает на некоторых граждан по предоставлению услуг ради общего интереса. Врачи, по сути своей профессии, должны «служить» людям для их здоровья. Но современное здравоохранение все дальше уводит врачей от этой деятельности, подменяя интересы пациента и принципы врачебной специальности биополитической реальностью («ковидные ограничения»), бюрократизацией (надзор, документация, отчеты), бизнес интересами (фарма, производители оборудования, ИТ индустрия), и финансовыми посредниками (страхование), etc. Врач, все более теряет свою субъектность и профессиональную автономию, становясь политиком, чиновником, бизнесменом, фармацевтом, экономистом, надзирателем, диспетчером… Во что превращается ministerium medicinae (лат.) и как видят здравоохранение, свою специальность сами врачи и их пациенты в эпоху постмодерна, как развивать именно ту клинику, которая отвечает предназначению медицины и интересам пациентов — эти и другие вопросы мы решили начать обсуждать.
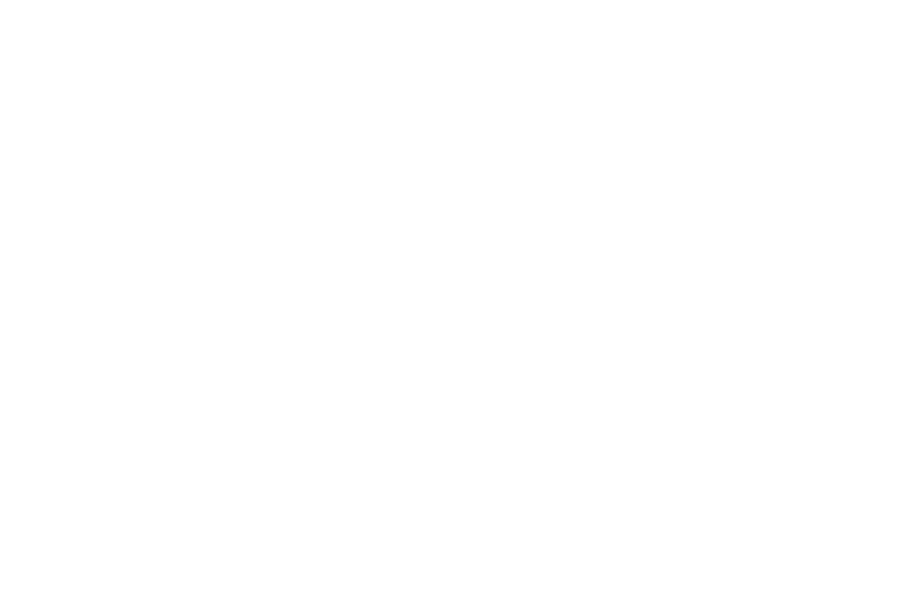
Павел Андреевич Воробьев
Сергей Ануфриев
– Начну я со слов признания вашему отцу — Андрею Ивановичу Воробьеву, министру здравоохранения Российской Федерации, который много сделал не только для гематологии, но и для всего отечественного здравоохранения. Для меня он тоже сыграл ключевую роль в профессиональной жизни, причем крайне интересным образом, издав в 1992 году приказ №237 о реформировании первичной медико-санитарной помощи по принципу врача общей практики (семейного врача). Это был достаточно революционный приказ по тем временам. Многие близорукие организаторы сразу же стали говорить о разрушении амбулаторной сети, поликлиник и педиатрии. И вряд ли, наверное, подозревал он, что, издавая этот приказ, вдохновит очень многих врачей, в том числе и меня, войти в новую специальность — семейную медицину. Как был принят этот приказ и зачем введена новая специальность в российском здравоохранении?
Павел Воробьев
—Отец был первым министром новой России. Он никогда не готовился к административной роли, был терапевтом, лечебником, ученым. И, конечно, знаний по организации здравоохранения у него не было. Ничего не знал Андрей Иванович и о том, как устроено здравоохранение в других странах. А тут началась коренная ломка государства, строя, отношений, вовсю расцветал дикий капитализм в стране, где это до той поры было ругательным словом. Втихую приняли закон еще при Советской власти о медицинском страховании, понаписали туда консультанты слов непонятных, невиданных — о лицензировании, аккредитации, стандартах. Никто никогда не сознался, кто же автор этого закона. Думаю, были иностранные консультанты из Мирового банка, водившие перьями. Разговор это долгий. Теперь уже стало ясно, что была задача разрушить сложившуюся в стране систему, которую называли системой Семашко. Появились соответствующие документы. Очень много тогда «реформаторов» всплыло с различным «административным ресурсом» и разной степенью порядочности, одновременно «старые кадры» пытались сохранить существующий порядок. В результате создавались приказы по принципу «кто в лес, кто по дрова». Внутри Минздрава шла постоянная борьба на уровне заместителей Министра. Я участвовал в создании нескольких важных приказов, в частности — по приданию аптекам статуса юридических лиц и по введению системы ОМС. Позже — по созданию системы стандартизации в здравоохранении. И вот в такой обстановке было несколько приказов «на перспективу», на изменение отношений в медицине в целом: о развитии сестринского процесса и создании высшего сестринского дела, о создании врачей общей практики. Не уверен в близорукости тех, кто считал этот приказ началом конца: прошло уже 30 лет, а семейные врачи общей практики так и не появились. Страна застряла между двумя подходами — участковыми врачами с женскими консультациями и прочими педиатрами и врачами общей практики. Инициатором направления был профессор Игорь Николаевич Денисов, но ничего чиновники не сделали, чтобы развить эту систему. И в законодательстве ничего нет про общую практику: два закона о здравоохранении за эти десятилетия обошли тему молчанием. Нет понимания, как это оплачивать: врач общей практики должен быть «на содержании» у государственной системы здравоохранения, а у нас опять — гибрид. Вроде должна быть страховая модель оплаты, а все коряво делают через подушевое финансирование и КСГ. В целом, бардак начался при Андрее Ивановиче, ему не дали провести ни одну рациональную идею и быстро убрали с глаз долой.
Сергей Ануфриев.
– Мы действительно говорим о определенном цивилизационном упадке, и исторически, конечно, он сопровождается крушением морали, норм, культуры, знаний. Но всегда были личности, и у меня вопрос к вам: где такие личности масштаба, как В.М. Бехтерев, Н.И. Пирогов, И.П. Павлов, И.И.Мечников, на которых равнялись? Появляются ли сейчас такие люди, почему мы не слышим их голоса?
На себе испытал, что значит оказаться в «стоп-листе», как невозможно устроиться на работу, если выпал из обоймы, как закрывают созданное тобой, воруют и извращают наработанное до полной противоположности, например, клинические рекомендации и оценку медицинских технологий.
П.А.Воробьев
П.А.Воробьев
— Крушение мы наблюдаем — это безусловно. Я не случайно выступал у вас на XVII «Петербургском медицинском форуме» в 2024 году с лекцией про дебилократию: рушат все. Сознательно. Ни одной личности не дадут поднять головы. Найдут способы убрать с дороги. Масштабные люди появились в другое время и в другой стране, в окружении иных технологий. Но! В.М. Бехтерева убили, отравили. Н.И. Пирогов был очень давно и под конец жизни занимался учебными заведениями, писал письма жене о здравоохранении: больше никому это было не интересно. Пироговское движение появилось после его смерти. А при жизни? Ничего. И.П. Павлов? — так он не медик, никто им не гордился, он с властью был в активном конфликте. После смерти раздули «павловское учение» — лучше бы не было этой вакханалии с нервизмом. И это не он придумал — за него, после него. «Все болезни от нервов» отбросило нашу науку далеко назад. И.И. Мечников, как и В.А. Хавкин, были изгнаны из страны. Нет, личности всегда были в стране не нужны. И уж точно — на них не ровнялись. Нынешние голоса, если и появляются, то средства массовой информации раскручивают их под нужную дуду, делают из них псевдогероев. Нельзя недооценивать того, что мы зовем сегодня пропагандой. На себе испытал, что значит оказаться в «стоп-листе», как невозможно устроиться на работу, если выпал из обоймы, как закрывают созданное тобой, воруют и извращают наработанное до полной противоположности, например, клинические рекомендации и оценку медицинских технологий. Самородком в медицинском обществе стать сейчас нельзя: нужна команда, на нее нужны средства, просто взять и реализовать какую-то светлую идею не получится.
Сергей Ануфриев.
– Вспоминаю Пироговские общества, которые еще до революции поднимали общественно-политические вопросы. На ваш взгляд, врачебное сообщество должно так широко осмысливать реальность или исключительно заниматься только медицинскими вопросами?
Павел Воробьев
— Пироговское общество конца XIX — начала XX века было сборищем ретроградов. Поначалу его организовали вполне хорошие и известные люди. Но дальше что-то пошло не так. Тон стали задавать врачи — представители земств, имевшие часто кадетскую партийную принадлежность. Движение было настроено антиправительственно, участвовало в политических баталиях. Академик Г.Е.Рейн пытался сделать реформу здравоохранения в стране, создать первую в мире государственную систему, первый в мире Минздрав еще в 1916 году. А против активно было Пироговское общество во главе с Ф.А.Рейном (они вроде даже не родственники). Они боролись активно против всего нового. После революции 17-го года реформы Г.Е.Рейна были свернуты, а генерал арестован. После Октябрьского переворота 17-го года идеи государственного здравоохранения были подхвачены Н.А.Семашко, но Пироговское движение снова было против. Дошло до того, что остракизму подвергались врачи, сотрудничающие с «новой властью», их списки публиковались Пироговским движением. Хотя, казалось бы, врачи должны быть вне политики. Как минимум — не быть активными политическими деятелями. Но — куда там. В 1922 году его деструктивная деятельность была прекращена. Часть наиболее активных — человек 20 — были отправлены в ссылки, пятеро — высланы из страны. Но вновь подняло голову Пироговское движение в начале 90-х годов, и опять — с политическими амбициями. На короткий период в конце нулевых годов мне довелось войти в состав правления Пироговского движения, но я там не задержался. Реальных идей у этой структуры не было, а политических — хоть отбавляй.
Мне представляется, что врачам необходимо заниматься вопросами не столько политическими, сколько социальными, организационными, наряду с чисто медицинскими. Этого всегда недоставало и недостает. Нужно думать и про доступность и финансирование, источники средств и их рациональное использование, а также о лекарственном или инструментально/приборном обеспечении. Обсуждать современные тенденции развития технологий, включая IT и ИИ, этику, не отмахиваться от всего этого, как от надоедливой мухи. Главные врачи — все равно врачи, организаторы здравоохранения — врачи. Реже — чиновники. Но никто и никогда врачей не учил вопросам народного здравия. В лучшем случае — прививкам и никому не нужной диспансеризации, провозглашая абсолютно бессмысленные лозунги о том, что предупредить болезнь легче и дешевле, чем ее лечить. И не легче, и явно существенно дороже. С грустью смотрю на деятельность врачей в Госдуме: кажется, нет ни одного маразматического решения, которое они бы не приняли.
Мне представляется, что врачам необходимо заниматься вопросами не столько политическими, сколько социальными, организационными, наряду с чисто медицинскими. Этого всегда недоставало и недостает. Нужно думать и про доступность и финансирование, источники средств и их рациональное использование, а также о лекарственном или инструментально/приборном обеспечении. Обсуждать современные тенденции развития технологий, включая IT и ИИ, этику, не отмахиваться от всего этого, как от надоедливой мухи. Главные врачи — все равно врачи, организаторы здравоохранения — врачи. Реже — чиновники. Но никто и никогда врачей не учил вопросам народного здравия. В лучшем случае — прививкам и никому не нужной диспансеризации, провозглашая абсолютно бессмысленные лозунги о том, что предупредить болезнь легче и дешевле, чем ее лечить. И не легче, и явно существенно дороже. С грустью смотрю на деятельность врачей в Госдуме: кажется, нет ни одного маразматического решения, которое они бы не приняли.
Сергей Ануфриев.
– Сейчас с художниками и фотографами группы Medart мы делаем выставку картин (www.cosmos-show.art), посвященных истории зарождения христианства в Ирландии в 3-4 веке н.э. Там существовало три общественных слоя: аристократы/землевладельцы, простолюдины и так называемые люди знания или друиды (поэты, историки, судьи, ремесленники, знахари). Друидов уважали соотечественники, защищали законы, причиной тому была ученость людей, знания, творчество и их мастерство. Спустя 17 веков слово года 2024 года, которое по Оксфордскому словарю было выбрано, — это brain rot, в переводе — гниение мозга. Этим словом обозначен тренд на дебилизацию людей, и он заметен и в том числе и в здравоохранении. Когда мы говорим о медицине, мы понимаем, что это высокоинтеллектуальная область, где действительно нужен тщательный отбор специалистов, допущенных к врачеванию тела и души человека. Но сейчас мы с Вами видим, что «люди знания» не в почете, их знания, опыт отвергаются. Мы, кстати, это видели на примере печальных последствий ковида, когда новые современные успешные схемы лечения принимались с опозданием в полгода-год, а те, которые выгодны фарм-компаниям, внедрялись чуть ли не в течение месяца или недель. На ваш взгляд, как далеко этот процесс зашел в здравоохранении и что было бы важно сделать, чтобы преломить такой тренд на государственном уровне?
Павел Воробьев
— Увы, процесс почти необратим. Сменилось несколько поколений учителей, одно хуже другого. Сегодня студенты собираются пересаживать глаз (глаз!), просто не понимая, что глаз — это кусок мозга. Они реально не уверены, что земля не плоская, во всяком случае червь сомнения их гложет. Они обсуждают иммуномодуляторы, гомеопатию, БАДы, антиоксиданты и прочую белиберду на голубом глазу, искренне не понимая, что не так. Наши «друиды» тоже дебилы. Не обольщайтесь. Вся эта демократия и либерализм сформировали за последние десятилетия страшное общество. Выхода я не вижу. Увы, скорее всего произойдут потрясения. Я много лет говорю, что ковид — это было начало третьей мировой войны (или точнее — очередная ее фаза), которая начиналась как милая шалость с оболваниванием жителей всего земного шара, а закончилась милитаристической вакханалией по всему земному шару. Будет ли это концом цивилизации — не знаю. У нас есть примеры исчезнувших культур: инков, майя, тех, кто жил в Египте, Месопотамии, в Индии. Не осталось ничего. Для возрождения после катастрофы нужно стоять на плечах предыдущих поколений, учителей. Иметь хотя бы «Манас», «Калевалу» или «Песнь о Гайавате» . Но теперь все живут так, как будто до них не было ничего. Для того чтобы переломить тренд, его надо увидеть, понять, принять, и тогда уже что-то делать.
Я много лет говорю, что ковид — это было начало третьей мировой войны (или точнее — очередная ее фаза), которая начиналась как милая шалость с оболваниванием жителей всего земного шара, а закончилась милитаристической вакханалией по всему земному шару.
Сергей Ануфриев.
– Задам несколько провокационный вопрос. Если бы вы сейчас были назначены министром здравоохранения Российской Федерации, что бы вы сделали? По пунктам конкретно. Где и что вы видите, надо менять в первую очередь, с чего начинать? В какой последовательности?
Павел Воробьев
— В 80-е — 90-е годы в какой-то газете была такая рубрика «если бы я был министром» (может быть, правда, директором). Вопрос сложный. Многое было написано в Докладе Формулярного комитета «О ЗДРАВООХРАНЕНИИ В РОССИИ» в начале 2010-х годов и передано первым лицам государства. Что-то из этого сделано, что-то — извращено.
- Здравоохранение должно быть государственным по организации и финансированию. Здравоохранение надо содержать, а не пытаться сделать из него источник дохода.
- Провайдерами помощи и лекарств могут быть структуры любой формы собственности, включая частных предпринимателей.
- Все должно быть компьютеризировано сверху и донизу.
- Везде должны работать парамедики — люди с очень коротким образованием в медицине — от первичного звена до самых высоких отделений.
- Максимально все перевести на дистанционные формы помощи — опять, начиная с первичного звена. Хватит сказок про «послушать и пощупать» — уже 150 лет прошло, как научились слушать, технологии поменялись. Для этого нужна повсеместная связь типа «starlink» или спутниковой связи. Признать, что ИИ — неизбежен, но место ему только во вспомогательных технологиях.
- Следующий слой — медицинские сестры, которые в основном и должны вести больных как дома, так и в больнице. Врач — верхушка айсберга медицинской помощи. Все врачи должны быть «общей практики», даже если они — хирурги. Узкая специализация возможна, но только если есть общая. Могут быть, например, врачи-операторы, которые больных не лечат, а только оперируют. Или химиотерапевты, радиологи. Все врачи должны сами делать УЗИ. Число таких специальностей должно быть минимизировано.
- Основные лекарства — а их меньше 500 наименований — должны быть дотированы государством для всех. Но после жесткого отбора, там не должно быть места наиболее популярным сегодня средствам, особенно с исключительно профилактическими показаниями.
- Конечно, закрыть все ФАПы, участковые и большинство районных больниц, создать большие межрайонные центры. Обеспечить транспортную доступность квадроциклами, электросамокатами для улучшения шаговой доступности, снегоходами, коптерами с высокой грузоподъемностью, где-то — электрокатерами. Для крупных городов нужны мотоциклы (они были, да не прижились). Ну и, конечно, малая авиация — вертолеты на несколько человек (2-5). Не забываем про армию и пенитенциарные учреждения.
Так как система становится из патерналистической субсидиарной, общественность должна принимать участие в развитии системы. Тут и «друиды» будут к месту. Хотя сейчас на них надежда мала.
Ирландские пелегрины спасают христианство в Европе. Люминография, фото 50*70, Группа "МедАрт", выставка "Геометрия света" СПб, 19 апреля -2 мая 2025

